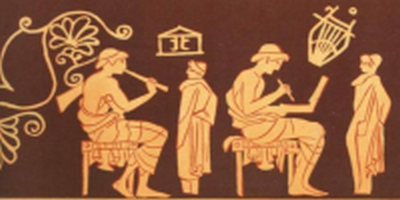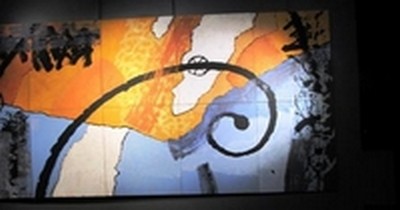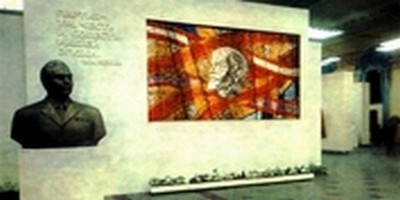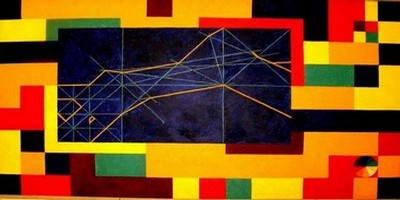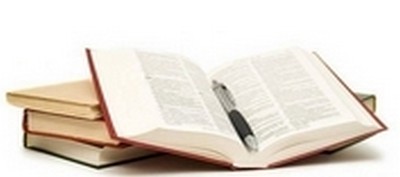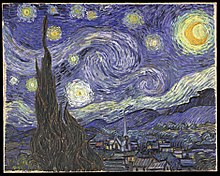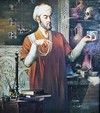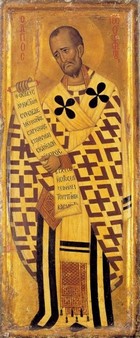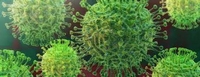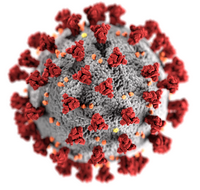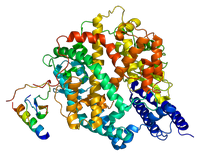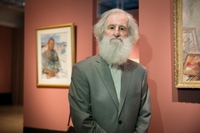Когда гении были молодыми

У третьей жены Михаила Булгакова, Елены Сергеевны, до ее брака с писателем была вполне благополучная советская семья: муж крупный военачальник, преподававший в Академии Генштаба Е.А.Шиловский, и двое сыновей-подростков Евгений и Сергей. По законам того времени семейные разводы разбирались в парткомах. Так вот, нового мужа Елены Сергеевны, Михаила Афанасьевича, пригласили в партком военной академии, секретарем которого был… Георгий Константинович Жуков. При самых неожиданных обстоятельствах в конце 1932 года наш гениальный писатель вдруг встретился с гениальным полководцем.
Как много отдали бы историки, чтобы услышать этот диалог, длившийся около часа в стенах парткома. Свидетелем этого разговора был только насмешливо улыбающийся с портрета вождь с трубкой в руке.
Но сохранилась запись в дневнике Булгакова: «Сегодня я познакомился с человеком, со смешной чеховской фамилией (из рассказа о Ваньке Жукове), у этого человека – великое будущее».
Пророчество писателя вполне оправдалось. И хотя формально беседа Михаила Афанасьевича и Георгия Константиновича касалась лишь семейного конфликта, разговор, можно не сомневаться, зашел о судьбе Отечества. Жукова, конечно же, волновало будущее детей Шиловского. Они должны были вырасти настоящими патриотами, защитниками своей Родины. Я уверен, что писатель увидел перед собой широко мыслящего, интеллигентного собеседника. Биография Жукова подтверждает это: в первую мировую войну, будучи 20-летним юношей, он стал полным георгиевским кавалером, а к 1930 году стал комбригом Самарской кавалерийской дивизии. В этом звании он поступил в Академию Генштаба, где его избрали секретарем партийной организации. Счастливо сложилась его семейная жизнь. Он был женат, прожив 46 лет с сельской учительницей Александрой Диевной, которая родила ему двух дочерей по имени Элла и Эра (позже, вне этого брака, на свет появились Маргарита и Мария). Жена-учительница помогла ему стать не просто смелым офицером, но и хорошо образованным человеком.
Говорили писатель и комбриг, видимо, и о русской истории, классической литературе. Возможно, они коснулись и романа «Белая гвардия» и событий гражданской войны, в которой оба участвовали. Булгаков, служивший военврачом в добровольческом корпусе белой армии, увидел перед собой талантливого красного командира. Эта встреча с Жуковым подтвердила главную мысль романа Булгакова о неизбежности победы Красной Армии, хотя, в сущности, делить и «белым» и «красным» было нечего. И Жуков и Булгаков оба были талантливы, оба любили свою родину, а родина у них была одна – Россия.
В финале романа «Белая гвардия» возле Киева появляется бронепоезд «Пролетарий», который охраняет замерзший часовой, смотрящий в ночное небо на холодную планету Марс. Читателя это, возможно удивит, но часовым мог быть старший брат моего отца – Иван Клименко, воевавший на бронепоезде «Пролетарий» и погибший в гражданской войне.
Встреча Булгакова с Жуковым не могла не повлиять на желание писателя оставаться в России, несмотря ни на что. К этому времени писательская судьба Михаила Афанасьевича сложилась для него драматически, коллеги по перу его травили, не давали печататься; и он подумывал о возможности уехать за границу. Булгаков решается написать письмо Сталину. В 30-е годы он отправил вождю несколько важнейших личных писем, в которых пытался уяснить для себя роль писателя, работающего в новых условиях, в новой, по сути, стране – СССР. Вскоре состоялся телефонный разговор: Сталин звонил Булгакову. Остались дневниковые записи Елены Сергеевны, где она зафиксировала подробности этого разговора; по словам Булгакова, Сталин провел эту беседу «сильно, ясно, государственно и элегантно»:
«Вы проситесь за границу? – спросил Иосиф Виссарионович, - мы вам очень надоели?»
После продолжительной паузы Михаил Афанасьевич ответил: «Я очень много думал в последнее время – может ли русский писатель жить вне Родины. И мне кажется, что не может».
«Вы правы, - ответил Сталин, - я тоже так думаю».
Писатель к этому времени был зачислен помощником режиссера в Театр рабочей молодежи. Но ему хотелось работать во МХАТе, где уже шла его пьеса «Дни Турбиных», но в штат его не принимали.
Сталин ответил: «Мне, кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами».
Ответ Булгакова: «Да, да! Мне очень нужно с вами встретиться».
Сталин: «Да, нужно найти время и встретиться обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего».
Вождь отчетливо отличал придворных лизоблюдов от талантливых и честных писателей. Сталин хотел, чтобы и Булгаков послужил ему. Но, увы, их встреча так и не состоялась. Однако Михаил Афанасьевич был принят во МХАТ помощником режиссера.
Год спустя он написал генсеку: «Хочу сказать Вам, Иосиф Виссарионович, что писательское мое молчание заключается в том, чтобы быть вызванным лично к Вам. Поверьте, не потому только, что вижу в этом самую выгодную возможность, а потому, что Ваш разговор со мной по телефону оставил резкую черту в моей памяти… Я год работал не за страх режиссером в театрах СССР».
Сталин, будучи главой государства, определял судьбу и писателя Булгакова и полководца Жукова.
В 1939 году Жуков разгромил японских самураев, вторгшихся в Монголию, на озере Ханкин-Гол, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. А через полтора года был назначен начальником Генштаба Красной Армии. Так, незадолго до войны с Германией 45-летний командир получил один из ключевых постов страны. Жуков не сразу согласился: я, мол, никогда не сидел в штабах.
Но услышал в ответ суровые слова: «Политбюро решило! А солдату надо повиноваться!»
Выбор вождя оказался правильным.
В те же годы, перед самой войной, Булгаков задумал написать пьесу о Сталине – «Батум». В ней он пытался разгадать загадку личности Иосифа Виссарионовича, он отнюдь не впадал в привычное для многих безмерное восхваление вождя. Михаила Афанасьевича заинтересовало магическое воздействие Сталина на окружающих. Кстати, об этом в своих мемуарах написал Уинстон Черчилль. Английский премьер заметил, что при появлении Сталина все вставали перед ним, как по команде, и решил не делать этого. Но, увы, как только Иосиф Виссарионович вошел в зал, сэр Уинстон поднялся следом за всеми. Такова была сила личности вождя.
Пьеса «Батум» писалась уже зрелым мастером, в это же время он завершал работу над романом «Мастер и Маргарита». Образ молодого Сталина-Джугашвили в пьесе убеждает, что тот обладал способностями медиума. Ему удавалось гипнотизировать многих людей: инспекторов духовной семинарии, которые его побаивались, приказчиков завода Ротшильда, где он возглавил забастовку, даже жандармов в тюрьме и в ссыльном поселении в Восточной Сибири, откуда он загадочно бежал.
В начале 1939 года Е.С.Булгакова отметила в дневнике: «Миша взялся после долгого перерыва за пьесу о Сталине. Только что прочла первую картину. Понравилось ужасно! Все персонажи живые».
Через день, она же: «И вчера и сегодня Миша пишет пьесу, выдумывает при этом и для будущих картин положения, образы, изучает материалы».
Пьеса летом 1939 года была прочитана перед труппой МХАТа. На главную роль прочили актера Николая Хмелева. Хотя премьера так и не состоялась, пьеса «Батум» все-таки обрела первых слушателей. В середине 1939 года в квартире на улице Фурманова она была прочитана автором драматургу Николаю Эрдману и его брату художнику Борису. Оба сказали, что «удача этой вещи грандиозная». Были произнесены и первые слова «Батума» артистами МХАТа на застольном чтении пьесы.
В ней исполнитель роли ректора духовной семинарии говорит: «Народные развратители и лжепророки, стремясь подорвать мощь государства, распространяют повсюду ядовитые социал-демократические теории, которые проникают во все поры нашей жизни… Один из преступников обнаружился в среде воспитанников нашей семинарии… Иосиф Джугашвили исключается из нее».
В ответ артист Хмелев в роли молодого Сталина насмешливо отвечает: «Аминь!» А потом исключенный семинарист рассказывает своим однокашникам, что гадавшая ему цыганка обещала Иосифу великое будущее…
А вот финал этой пьесы. Сосланный в Туруханский край, Иосиф Джугашвили, обманув жандармов, совершает дерзкий побег. Он пересекает всю страну с севера на юг, преодолев тысячи верст. И, наконец, оказывается в Батуми, в домике рабочего-революционера, встретившись с его детьми Наташей и Порфирием. Тогда-то и происходит этот удивительный разговор, показавший землякам, что бывший семинарист Сосо Джугашвили стал Сталиным. Таков финал пьесы:
Сталин: Бежал (Начинает снимать шинель.)
Порфирий: Из Сибири?! Через месяц сбежал! Из Сибири!
(Сталин идет к печке, садится на пол, греет руки у огня.)
Сталин: Огонь, огонь… погреться…
Порфирий: У тебя слабая грудь, а там – какие морозы.
Сталин: У меня совершенно здоровая грудь и кашель прекратился… Я, понимаете, провалился в прорубь… там… но подтянулся и вылез… а там очень холодно, очень холодно… И я сейчас же обледенел… Там все далеко так, ну, а тут повезло: прошел всего пять верст и увидел огонек… вошел и прямо лег на пол… а они сняли с меня все и тулупом покрыли…Тут подумал: вот я сейчас буду умирать. Конечно, думаю, обидно… в сравнительно молодом возрасте… и заснул, проспал пятнадцать часов, проснулся, а вижу – ничего нет. И с тех пор ни разу не кашлянул… А можно мне у вас ночевать? Наташа: Что же ты спрашиваешь?
Сталин: Наташа, дай мне кусочек чего-нибудь съесть.
Наташа: Сейчас, сейчас, погрею суп!
Сталин: Нет, нет, не надо, умоляю! Я не дождусь, дай чего-нибудь, хоть корку, а то, ты знаешь, откровенно, я двое суток ничего не ел… Порфирий (бежит к буфету): Сейчас, сейчас, я ему дам… (Вынимает из буфета хлеб и сыр, наливает в стакан вина) Пей.
(Сталин, съев кусок и глотнув вина, засыпает)
Наташа: Сосо, ты что? Очнись…
Сталин: Не могу… я последние четверо суток не спал ни одной минуты… думал, поймать могут… а это было бы непереносимо… на самом конце… Порфирий: Так ты иди ложись, ложись скорей! Сталин: Нет, ни за что! Хоть убей, не пойду от огня… пусть тысяча жандармов придет, не встану… я здесь посижу… (Засыпает)»
11 июля 1939 года состоялась официальная читка пьесы в узком кругу в присутствии председателя комиссии по делам искусств М.Храпченко и нескольких людей из МХАТ.
«Результат этого чтения в Комитете могу признать, - записал М.Булгаков, - не рискнув ошибиться, благоприятный вполне».
Было решено начинать работу над спектаклем.
А дальше произошел почти что анекдот, правда, с печальным оттенком. По традиции, установленной Станиславским, вся труппа от правилась на место действия пьесы, в город Батуми. Доехали только до Тулы. И тут в поезд вошел почтальон со срочной телеграммой: «Бух-гак-теру! Бух-гак-теру!» – выкрикивал он.
правилась на место действия пьесы, в город Батуми. Доехали только до Тулы. И тут в поезд вошел почтальон со срочной телеграммой: «Бух-гак-теру! Бух-гак-теру!» – выкрикивал он.
Булгаков побледнел и грустно сказал: «Эта телеграмма предназначена не бухгалтеру, а мне. И она не предвещает ничего хорошего».
Я точно не знаю всех слов телеграммы. Но вся труппа тотчас вернулась в Москву, а работа над спектаклем «Батум» была приостановлена.
Позже в разговоре с Немировичем-Данченко Сталин сказал: «Пьеса «Батум» очень хорошая, однако ставить ее нельзя».
Надо полагать, что вождь, ставший в глазах миллионов людей «небожителем», не мог себе позволить предстать перед народом обыкновенным человеком из плоти и крови, переносящим физические страдания.
Эта цыганка, из пьесы «Батум» столь необычную судьбу могла бы напророчить и Георгию Константиновичу Жукову. Вся жизнь этого полководца была романтичной, удивительно мужественной и целеустремленной.
Он родился 2 декабря 1896 года в деревне Стрелковка в Калужской губернии у крестьян Константина и Устиньи. Подростком Георгия обучали скорняжному делу. Но началась гражданская война, и в 1918 году 22-х лет отроду он вступил в Красную Армию. А еще через год был принят в ряды партии большевиков. Позже учился в Высшей кавалерийской школе в Ленинграде и стал одним из лучших ее выпускников.
Старшая дочь Г.К.Жукова, Эра Георгиевна, рассказала о многих подробностях личной жизни своих родителей в очерках «Отец» и «Моя мама». Их встреча, внезапно вспыхнувшая любовь и женитьба случилась в 1920 году, когда красный командир был послан на Тамбовщину, подавлять контрреволюционный антоновский мятеж.
«Время было трудное, - пишет она, - в погоне за белогвардейскими бандами отряд все время передвигался. И мама была зачислена в штаб отряда писарем. Как она рассказывала, спуску от командира ей никакого не было. А однажды он чуть было не отправил ее на гауптвахту за какую-то оплошность. Но трудности и лишения кочевой жизни не лишали их счастья».
Сам Жуков, любящий муж и нежный отец, в делах воинской службы проявлял повышенную твердость. Он позже упрекал себя за излишнюю суровость и требовательность к подчиненным, что считал все-таки необходимым качеством командира-большевика. Его однополчанин оставил такой портрет своего начальника: «Ни один раз видел этого человека – приземистого, плечистого, энергичного, с резкими движениями…»
Именно таким и запомнился будущий великий полководец писателю Михаилу Афанасьевичу Булгакову во время их встречи в Академии Генштаба. Он во многом напомнил ему фигуру римского центуриона, запечатленного позже в романе «Мастер и Маргарита». И не только четкие, лаконичные слова Георгия Константиновича, но и весь магнетизм его личности заставили Булгакова написать в дневнике о великом будущем этого человека.
Оно полностью подтвердилось в годы Второй мировой войны, когда Булгакова уже не было в живых. Жуков в эти суровые годы постоянно встречался со Сталиным. Верховный главнокомандующий не любил надолго отпускать от себя своего заместителя. А «десять сталинских ударов» по фашистам можно назвать и «десятью жуковскими ударами». Знаменитый маршал покидал Ставку лишь тогда, когда на каком-то из участков фронта нужно было срочно выправлять сложное положение. Так было при блокаде Ленинграда, при битве за Сталинград и при окружении армии фон Паулюса, наконец, при завершающем событии войны – штурме Берлина и подписании немецкой капитуляции.
В своих мемуарах Г.К.Жуков несколько слов посвящает вождю: «Последние годы принято обвинять И.В.Сталина в том, что он не дал указаний о подтягивании основных сил наших войск из глубины страны для встречи и отражения ударов врага. Не берусь утверждать, что могло бы получиться в таком случае – хуже или лучше. Гитлеровское командование серьезно рассчитывало на то, что мы подтянем ближе к государственной границе главные силы фронтов, где противник предполагал их окружить и уничтожить. Это была главная цель плана «Барбаросса» в начале войны».
Он пишет и о том, что чувство уверенности в предстоящей победе никогда не покидало наших людей. Даже в самые тяжелые времена войны, приехав на передовую, и мужественно пережив вместе с солдатами вражескую бомбежку, маршал воскликнул: «Молодцы! С такими войну не проигрывают!»
«Общеизвестно, - написал он в книге, - какой радостной волной прокатилось по всему миру весть о разгроме немецких войск в районе Сталинграда, как вдохновила она народы на дальнейшую борьбу с фашистскими оккупантами».
Эти три человека: Сталин, Жуков, Булгаков – государственный деятель, полководец и писатель – удивительным образом соединились в одном времени, повлияли друг на друга, на жизнь страны. Деятельность этих людей стала значима для всего мира, показала всем талантливость русской земли.
На этом, казалось бы, можно было поставить точку. Мы рассказали об отношениях между собой великих людей именно в те годы, когда страна пережила момент истины, когда перед ней стоял вопрос: быть или не быть? И наш народ решительно ответил, словом «быть».
Речь, конечно, идет о славном пятилетии, 1941-1945 гг. Но вот, задаем мы себе вопрос: Михаил Афанасьевич Булгаков умер 10 марта 1940 года, за год до начала Великой Отечественной войны. Получается, что календарно он оказался вне этих событий. Это все же, не совсем так. И я начинаю перелистывать архивы своей памяти…
Наконец, нахожу то, что мне нужно. Ровно сорок лет назад я собирал и перечитывал каждое произведение, написанное Михаилом Афанасьевичем. Однако мне не попадалась повесть конца 20-х годов «Роковые яйца», долгое время не переиздававшаяся. Друзья мне подсказали: пойдите в Бахрушинский музей, там одна из сотрудниц собрала все книги Булгакова и охотно дает их читать, естественно в самом музее.
И вот – напротив меня дама в кружевном воротничке и с аккуратным пучком волос. Мы расположились в покойных бахрушинских креслах. Строгая пожилая дама, по имени Наталья Николаевна, тихо вяжет. А я в течение двух часов наслаждаюсь дивной, мистической, булгаковской прозой. Сюжет этой странной, полуфантастической повести, разумеется, хорошо известен. Молодая советская республика срочно нуждается в увеличении куриного мяса. А в один из совхозов на Смоленщине, возглавляемой Александром Семеновичем Рокком, черт знает откуда завезли, черт знает какие ископаемые яйца. То ли птеродактилей, то ли гуанадонов? Товарищ Рокк перепутав яйца, начал согревать их особым лучом, а значит, стремительно размножать забытые миром чудовища, доводя их до неслыханных размеров.
Поначалу все читалось как научная фантастика или сатира на нерадивого хозяйственника. А дальше? Посмотрите, что творится! Полчища ископаемых гадов двинулись, сметая все на своем пути, на нашу родную столицу. Потянулись потоки беженцев. Теплушки берутся приступом. Поступают срочные сообщения с мест боев на подступах к Москве, которую гады взяли в клещи.
- Не кажется ли вам, - говорит мне Наталья Николаевна, - что Булгаков предугадал маршруты танковых дивизий Манштейна и Гудериана?
- Фантастично! - только и промолвил я.
А дальше в этой провидческой повести закипает справедливый народный гнев. По узкому извилистому Арбату движется Красная кавалерия во главе с славным командармом. «Бейте их гадов!» - кричат с тротуара разгневанные москвичи.
А конники отвечают словами боевого куплета:
Ни туз, ни дама, ни валет,
Побьем мы гадов, без сомненья,
Четыре сбоку – ваших нет!
(Красноармейская частушка)
- А разве не сбылось предвидение Булгакова, - продолжает наш диалог старая дама, - что ранней осенью 41-го года под Москвой грянули лютые холода? И все гады, то есть фашистские танки завязли в сугробах?
- Фантастично! – только и могу я повторить.
К сожалению, такой же смелой версии этой повести я не нашел ни у кого из литературоведов. Возможно потому, что среди них не оказалось доктора Зигмунда Фрейда (1856-1939), который создал учение о бессознательном. Сам он искусно толковал проявление свободных ассоциаций в творчестве писателей и художников.
Один из таких провидческих снов великого мастера я увидел в финале романа «Мастер и Маргарита»: «Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами, Кто блуждал в этих туманах, кто страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его. Волшебные черные кони и те утомились и несли своих всадников медленно, и неизбежная ночь стала их догонять».
Роман, озаренный смертельным блеском, высветил вдруг то, о чем редко принято говорить. Писатель сказал на этот раз, что человек принадлежит не только милой земле, с которой жаль расставаться. Он принадлежит также бессмертным звездам, куда вознеслись и все наши герои.