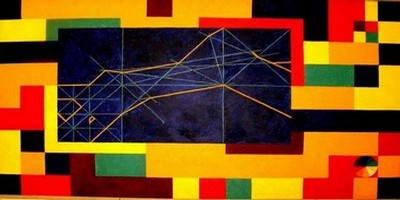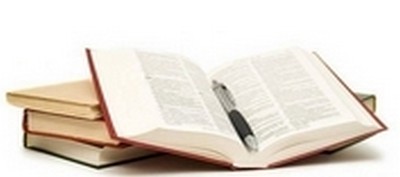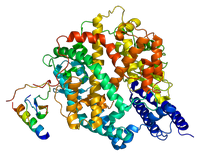Две дуэли

Счастливый случай привёл меня недавно в мастерскую старинного приятеля бывшего главного художника Театра на Малой Бронной Николая Эпова. Там я, не скрою, более всего интересовался раритетами пушкинских времён. Книги и альбомы в золочёных переплётах, расписные веера, инкрустированные трости смотрелись отнюдь не лавкой древностей. Они вдруг представились мне важнейшей частицей российской истории. Без них — это отлично понимал и хозяин мастерской — был бы немыслим ни один добротный спектакль о России начала XIX века, когда жил и творил наш национальный гений.
— А не хочешь ли увидеть пистолеты, на которых Пушкин дрался с Дантесом? — спросил меня Николай Николаевич.
— Пистолеты системы "лепаж"? Конечно, хочу!
— Тогда изволь! — И гостеприимный хозяин направил на меня ствол старинного оружия, которым пользовались двести лет назад при выяснении вопросов дворянской чести.
Я, разумеется, знал, что пистолет не заряжен. И всё же что-то дрогнуло во мне: прямо в мою душу глянул чёрный, будто лакированный, зияющий ствол. В эту минуту я понял: каким же мужеством и бесстрашием, каким великим сердцем обладал наш поэт. Там, на Чёрной речке, среди белых снегов России, стрелялся философ и мудрец.
— Он жил как эпикуреец, а принял смерть как стоик, — подтвердил мою догадку мой добрый собеседник.
Но еще одна мысль с далёких времён запала в мою душу, я теперь все яснее начинаю понимать... дуэль была не одна. Да, конечно, чисто физический поединок вёлся с корнетом гвардии Жоржем-Шарлем Дантесом. Но одновременно у Пушкина был куда более важный духовный поединок с другим французом — Мари-Франсуа Вольтером. Мне кажется, что в тот морозный день в январе 1837 года Пушкин швырнул перчатку сразу двум безбожникам. И о том, что это жестокое противостояние всё же было, говорят простые и ясные строки, написанные поэтом перед смертью:
Ещё в ребячестве, бессмысленный и злой,
Я встретил старика с плешивой головой,
С очами быстрыми, зерцалом мысли зыбкой,
С устами, сжатыми наморщенной улыбкой....
У Пушкина до столкновения с Дантесом было три дуэли, и все — с русскими людьми (точнее, с россиянами), и все — по пустякам. Разумеется, ни у кого из дуэлянтов и в мыслях не было всерьёз целиться в молодую надежду России. Был, правда, среди них очень опасный соперник — Фёдор Иванович Толстой (Американец), схватка с которым казалась неизбежной. Пушкин, находясь в ссылке на юге за вольнодумные стихи, постоянно готовился к поединку с первым дуэлянтом России. Поэт даже научился класть пулю в пулю с двадцати шагов. Но после окончания ссылки вместо дуэли состоялась свадьба Пушкина с первой красавицей России Натальей Николаевной Гончаровой, сватом к которой поехал помирившийся с поэтом Толстой-Американец.
Если рассуждать спокойно, с позиции военного человека, то у дрянного офицеришки Дантеса, занимавшегося волокитством и попойками, возможности уцелеть на дуэли с Пушкиным не было никакой. Не случайно в день поединка, 27 января 1837 года, Дантесов "голубой папаша" барон Якоб-Теодор-Борхард-Анна ван Геккерн трясся от страха за своё распутное чадо, сидя в собственной карете за версту от Чёрной речки. Умный нидерландский дипломат понимал, что всё складывается против его питомца и любовника. Силы стрелявшихся были слишком неравны. Куда более достойного соперника обрёл Пушкин в лице Вольтера, писателя, философа, историка эпохи Просвещения. Слово "вольтерьянство" подразумевалось юным Пушкиным как синоним понятию "вольнодумство". Автор "Кандида" и "Орлеанской девственницы", наделённый разящим саркастическим умом, подверг жестокому осмеянию церковные авторитеты. Недаром на родине Вольтера, призывавшего "раздавить гадину" (то есть Церковь), прозвали дьяволом во плоти. Трудно сказать, разделял ли юный Пушкин философию безбожника-француза, но он находил в его книгах увлекательного и остроумного собеседника, открывал новые сферы познания, новые миры. Этот искус поэта был сродни искушению Адама, сорвавшего яблоко с древа Познания. Сразу же по выходе из Лицея Александр начал переводить поэму "Орлеанская девственница". Похождения Вольтеровой Иоанны д'Арк, непрестанно попадавшей в двусмысленное положение, оказавшейся вовсе не святой и, возможно, не девой, возбуждали пылкое воображение гениального переводчика:
Я не рождён святыню славословить,
Мой слабый глас не взыдет до небес...
И тут, как говорится, Пушкина бес попутал. Вместо того, чтобы перекладывать с французского на русский тысячи строф, юный и неокрепший духом поэт решил написать собственную богохульную поэму — "Гавриилиаду": Воистину еврейки молодой Мне дорого душевное спасенье... Желание сравняться с "дьяволом во плоти" завело Александра слишком далеко. Вот когда им был получен удар отравленной Вольтеровой рапирой. Позже Пушкин приходил в ярость при одном только упоминании о "Гавриилиаде". Он даже собирал и сжигал её списки: всё сжечь не удалось. В своих показаниях следственной комиссии по поводу списка "Гавриилиады", найденного у штабс-капитана М.Митькова, поэт писал: "Рукопись ходила между офицерами Гусарского полку, но от кого из них именно я достал оную, я никак не упомню. Мой же список сжег я, вероятно, в 20-м году. Осмеливаюсь прибавить, что ни в одном из моих сочинений, даже из тех, в коих я наиболее раскаиваюсь, нет следов духа безверия или кощунства над религиею. Тем прискорбнее для меня мнение, приписывающее мне произведение столь жалкое и постыдное". Убеждён, что рукой поэта двигало не желание как-нибудь выкрутиться. В пушкинских словах есть искренняя самооценка ("произведение жалкое и постыдное"), есть здесь и программа творчества на будущее, в котором нет больше "духа безверия или кощунства над религиею". Царю же Пушкин признался во всём.
Имя Вольтера не раз мелькает в поздних пушкинских письмах и произведениях. Но от былого пиетета не осталось и следа. Нет, старик с плешивой головой не восторгал больше Александра Сергеевича. Да и что можно было ждать от человека, чья проповедь безбожия вела людей неустойчивых и легкомысленных к потере нравственных идеалов. Теперь Пушкин критиковал кумира своей юности. "Вольтер, во всё течение долгой своей жизни, никогда не умел сохранить своего собственного достоинства... Наперсник государей, идол Европы, первый писатель своего века, предводитель умов и современного мнения, Вольтер и в старости не привлекал уважения к своим сединам: лавры, их покрывающие, были обрызганы грязью... Он не имел самоуважения и не чувствовал необходимости в уважении людей" ("Современник", N 3).
Дело, разумеется, не в возникшем вдруг раздражении против великого писателя, умершего более чем за двадцать лет до рождения Александра Сергеевича. Просто у Пушкина в 30-е годы сложились новые нравственные ориентиры. Чтобы лучше понять искания пушкинского духа, стоит внимательнее перечитать его статью "Собрание сочинений Георгия Конисского, архиепископа Белоруссии" ("Современник", N 1). Смысл её отнюдь не в оценках полузабытого ныне религиозного писателя конца XVIII века. Нам интересен прежде всего слишком не случайный отбор фрагментов из сочинений Конисского, мысли которого оказались созвучными тогдашнему мироощущению поэта: "Нераскаявшийся грешник есть новый распинатель Христа", "Радость духовная есть радость вечная, она не умаляется в бедах, не кончается при смерти, но переходит по ту сторону гроба", "Одни яко пшеница, другие яко плевелы ожидают серпов ангельских". Для нас, пожалуй, особенно важна следующая цитата: "В нынешних богоборных сонмищах атеистов и натуралистов, в главных гнёздах их, во Франции и Англии, нашёлся хотя один ревнитель, который за безбожие своё на муки дерзнул?" Нет, Вольтер — так подразумевал автор статьи — на подобное никогда бы не дерзнул...
Одна из поздних статей Пушкина "Последний из свойственников Иоанны д'Арк" была опубликована уже после смерти поэта. Тема статьи — дуэль, человек, к которому она полемически обращена, — Вольтер. Автор даже пошёл на литературную мистификацию, выдавая своё оригинальное произведение за перевод из английского журнала, чтобы придать почти документальную достоверность истории несостоявшейся дуэли престарелого, сильно перетрусившего Вольтера с потомком Орлеанской девы. Все это — чисто пушкинская выдумка, имеющая под собой нравственное основание. Время завершило свой круг. И Пушкин вступился за святую деву Франции, с которой слишком непочтительно обошёлся её соотечественник. "Итак, прошу вас, милостивый государь, дать мне знать о месте и времени, так же и об оружии, вами избираемом для немедленного окончания сего дела" ("Современник", N 5). Вот слова из той статьи, которые по тональности и мысли перекликаются с запиской поэта Геккерну. А по сути это — вызов Пушкина Вольтеру, посланный через десятилетия.
В одном из лучших своих исследований "Опыт реконструкции пушкинского сюжета об Иисусе" профессор из Тарту Юрий Лотман приходит к удивительным выводам. Учёный доказывает, что перед смертью поэт вплотную подошёл к осуществлению грандиозного замысла — трилогии о трёх чашах. Её сюжет должен был строиться вокруг трех пиров: Клеопатры (известные читателям "Египетские ночи"), Петрония (начало повести из римской жизни, известный отрывок "Цезарь путешествовал"), Христа (долго вынашиваемая, но так и не осуществлённая пушкинская вещь "Тайная вечеря"). "Существенно, — пишет Лотман, — что и в египетском, и в римском, и в христианском эпизодах речь идёт о смерти, по существу, добровольно избранной и одновременно жертвенной". Осуществив подобный замысел, Пушкин, безусловно, поднялся бы на новую, высочайшую ступень поэтической, философской, религиозной мысли. Образ чаши жизни, чаши наслаждения, чаши страдания не покидал его никогда. Замысел не был доведён до конца: поэту слишком рано пришлось испить чашу смерти...
— Всё-таки жаль, что Пушкин не написал "Тайной вечери", — вздохнул в конце нашей встречи хозяин мастерской Николай Николаевич. — Без неё пропало очень важное звено человеческой культуры.
— Всё было в воле Господней... Не мог один и тот же человек быть автором "Гавриилиады" и "Тайной вечери"...
— Нет! В этой дуэли, в этой смерти было слишком много несправедливого! — воскликнул Николай Николаевич, отбрасывая в сторону пистолет "лепаж". — Стреляться с французом на французских пистолетах — ужасная ошибка! То ли дело немецкие "кухенрейтеры": порохом нос не опалишь, да и пулю всадишь наверняка. Не пистолет — а просто моё почтение!