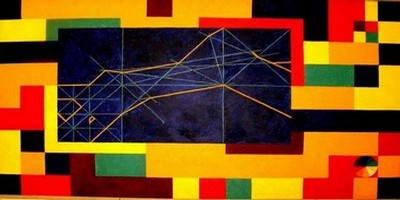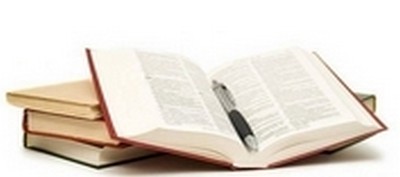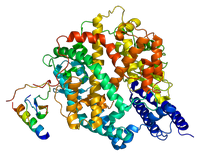Миниатюры о Гоголе. Енотовая шуба

В разбитой дорожной кибитке, проделавшей путь в полторы тысячи вёрст, морозным декабрьским вечером 1828 года въезжали в Петербург два молодых паныча из Малороссии. Первый из них, остававшийся все время невозмутимым, был строен и румян: хоть сейчас одевай в гвардейский мундир и выпускай на мазурку. Второй, не столь собою пригожий, поминутно выглядывал в маленькое оконце в ожидание невских огней, по той причине случилась некоторая неприятность: паныч, не имевший тёплой шинели с башлыком, отморозил до потери чувствительности свой длинный нос.
Мы, наверное, и не стали бы вспоминать того давнего приезда в город на Неве нежинских однокашников Александра Данилевского и Николая Гоголя-Яновского, если бы в самом начале их вьюжного пути в сознании будущего поэта не отпечатались образы, определившие душу его «Петербургских повестей». Невский проспект...Нос...Шинель... Как много за этими словами лично пережитого писателем! А вглядевшись в повести внимательнее, можно, думается, увидеть и вариант судьбы самого Гоголя, вариант, к счастью, не сбывшийся...
«Уже ставлю мысленно себя в Петербурге, в той весёлой комнатке окнами на Неву, так как я всегда думал найти себе такое место. Не знаю, сбудутся ли мои предположения, буду ли я точно живать в этаком райском месте или неумолимое веретено судьбы зашвырнёт меня с толпою самодовольной черни (мысль ужасная!) в самую глушь ничтожности, отведёт мне чёрную квартиру неизвестности в мире».
Так писал Гоголь по окончании Нежинской гимназии высших наук, с такими примерно мыслями и въезжал новоиспечённый чиновник четырнадцатого класса в сверкавшую фонарями северную столицу.
Таинственный, притягательный и холодный Петербург навсегда завладел воображением писателя. Стуком, громом и блеском встретил этот город кузнеца Вакулу, прилетевшего на черте. Рассупе-деликатесами и разными финтерлеями поразил трюхавшего на своей деревяшке по Невскому капитана Копейкина. Северная Пальмира обольщала и губила художника Пискарёва, несчастного столоначальника Поприщина, маленького чиновника с лысинкой Башмачкина. В Петербурге, как было замечено Гоголем, все дышит обманом, все мечта, все не то, чем кажется. И, может быть, старый приятель Вакулы черт зажигает здесь по вечерам лампы, чтобы дать всему фантастическую подсветку, показать все не в настоящем виде. Он, этот бес наваждения, стал режиссёром многих событий «Петербургских повестей».
Известно, что с 1829 по 1836 – вплоть до отплытия на корабле «Николай Первый» за границу – писатель переменил в Петербурге семь квартир чтобы лучше понять его мир, наверное, стоило, совершить путешествие по этим адресам, сверить живые уличные впечатления с гоголевскими текстами.
Поначалу Гоголю и Данилевскому пришлось поселиться на Гороховой у Семёновского моста. Прямо через Фонтанку, напротив дома купца Галыбина, располагались гвардейские казармы: пение трубы и стук барабана будили друзей по утрам. Это оказалось не лучшее место в городе. И тогда верный гоголевский слуга Яким Нимченко погрузил в тележку нехитрый скарб двух панычей и двинулся искать новые квартиры. Осталась позади Садовая (место жительства майора Ковалёва), за ней показался Екатерининский канал с его чистейшими водами, и вот уже замаячил, становясь все ближе, золотой шпиль Адмиралтейства. Это был рывок из Третьей Адмиралтейской части во Вторую К тому же совсем рядом зашумела Сенная площадь с её обильным рынком, с её провизией, столь необходимой для желудков молодых панычей. «Столом здесь не угощают, – писал Гоголь в хлебосольную родную Васильевку, – потчуют только чаем». Последующие гоголевские квартиры как бы сошлись на крошечном пятачке между Екатерининским каналом и Мещанской улицей: дом аптекаря Трута, дом каретника Иохима, дом Зверкова. То был густонаселённый район ремесленного люда. И Гоголю предстояло преодолеть ещё немало пути вплоть до «впадения» канала в Невский, до того места у Банковского моста, где стерегут загадку успеха сфинксы с позолоченными крыльями.
Здесь, около Гостиного двора, где разрешалось торговать только купцам первой гильдии, казалось, сам воздух пропах тысячными ассигнациями. Молодых людей притягивал, манил, завлекал Невский проспект с его театрами, модными магазинами, кондитерскими и кофейнями, где собирались литераторы. Гоголю не терпелось выпустить в свет первые пробы своего пера. Ему неистово хотелось познакомиться с Пушкиным.
И вот бесконечной чередой тянулись серые чиновничьи будни, беспросветная работа писцом в Департаменте государственного хозяйства и публичных зданий с жалованьем 600 рублей в год. Ближайший друг Александр Данилевский поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и вскоре отбыл на Кавказ. В унылом доходном доме Зверкова, запечатлённом в «Записках сумасшедшего», поселились вновь прибывшие нежинские однокашники Иван Пащенко и Николай Прокопович – младшие друзья Гоголя.
«Я терпеть не люблю капусты, - напишет автор вместе с Поприщиным в «Записках сумасшедшего», - запах которой валит из всех мелочных лавок в Мещанской, к тому же из-под ворот каждого дома несет такой ад, что я, заткнув рот бежал во всю прыть. Да и подлые ремесленники напускают копоти и дыму из своих мастерских такое множество, что человеку благородному решительно невозможно здесь прогуливаться».
Что за жизнь была у двадцатилетнего поэта, можно узнать, перелистав ведомость его приходов и расходов. Гоголь вёл её в декабре 1829-го и январе 1830-го. Приход составил ровно сто рублей, причём вовремя помог дальний родственник А.А.Трощинский, весьма кстати оказался и гонорар за перевод с французского. Зато расход с лихвой все перекрыл, явно превысили возможности неплотного кармана суммы, уплаченные за квартиру, чай, сахар и хлеб, а также за дрова, воду и свечи. Непоправимую брешь пробила в бюджете молодого щёголя покупка перчаток, подтяжек и носовых платков. Сальдо составило минус тринадцать рублей, а где их взять – уму непостижимо.
Тогда же и задумался Гоголь, что все лучшее на свете достаётся или камер-юнкерам, или генералам. Тогда же и воскликнул: «Достатка нет – вот беда».
Нам никак здесь не обойтись без новой параллели. Помните, как в «Записках сумасшедшего» красавица Софи посмеялась над Поприщиным, отдав руку и сердце камер-юнкеру Теплову? В первые годы петербургского житья Гоголь испытал своего рода увлечение «ласточкой Розетти», которая предпочла, однако, камер-юнкера Смирнова. К чести поэта, надо сказать, что юношеская пылкость перешла в стойкое обожание, со Смирновой-Россет до конца жизни у него сохранились самые близкие, дружеские отношения.
А пока в том тяжёлом 1829 году Гоголь переменил четыре квартиры, не находя пригодную для жизни и работы. Попытался встретиться с Пушкиным – неудача. Решился напечатать юношескую поэму – критический разнос. В том же году осенью приуготовил себя для подмостков Александринского театра – и снова неуспех. Переломить злосчастную судьбу никак не удавалось. Здесь бы и не юноша развёл руками от огорчения, но природа наградила Гоголя кремнёвым характером, в его жилах текла кровь соратников Тараса Бульбы.
Правда, была минута отчаяния, скорее даже бегства от самого себя: я имею ввиду необъяснимую поездку автора, сожжённого «Ганца Кюхельгартена» по местам меланхолического своего героя. Но нас в этом странном путешествии через Любек, Травемюнде, Гамбург, издержавшем последние гоголевские деньги, заинтересовал только один штрих. Гоголь одолжил в дорогу у Данилевского шубу, поскольку собственной не имел.
«Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья или около того. Враг этот не кто другой, как наш северный мороз, хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. В девятом часу утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их. В это время, когда даже у занимающих высшие должности болит от мороза лоб и слезы выступают в глазах, бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны. Все спасение состоит в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебежать как можно скорее пять-шесть улиц и потом натоптаться хорошенько ногами в швейцарской, пока не оттают таким образом все замёрзнувшие на дороге способности и дарованья к должностным отправлениям».
Это – из повести «Шинель». Заметим, кстати, что первую свою чиновничью службу Николай Васильевич нёс в самое холодное время: с 15 ноября 1829 по 25 февраля 1830-го. А в Петербурге, по словам Гоголя, ветер дул с четырёх сторон. Тогда-то и решился он заиметь тёплую шинель... а ещё лучше – шубу. Увы, мечта эта казалась почти недосягаемой. Нельзя без душевной боли читать переписку неизменно любящего сына Никоши с бесценной маменькой Марией Ивановной, в письмах этих в каждой строчке слышатся отголоски нужды, необходимость жесточайшей экономии («что за беда посидеть какую-нибудь неделю без обеда», «я отказываюсь почти от всех удовольствий»). Вспомним, как Акакий Акакиевич экономил на чае и свечах, оберегал подмётки башмаков, редко обращался в прачечную, а приходя домой со службы, спешил остаться в демикотоновом халате. Все это Гоголь поведал не только о бедном собрате чиновнике, но и о себе тоже, о своей нелёгкой юности. В повести «Шинель» представлена словно на выбор одежда, пригодная для сурового климата: шинели на кошках, бобрах и вате, а также енотовые, лисьи и медвежьи шубы. Гоголь остановился на енотовой шубе, она ему, правда, виделась такой же далёкой, как светящийся адмиралтейский шпиль.
Жизнь его неслась будто ладья среди волн. Но молодой кормчий научился выравнивать курс, в 30-ом все стало переменяться к лучшему. Началось, казалось, с неприметного факта: перешедшему в Департамент уделов Гоголю вышла прибавка (750 рублей в год), тогда же в «Отечественных записках» вышла повесть «Басаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала». А вскоре появилось и немного свободного времени. Прямо из департамента вновь назначенный помощник столоначальника спешил в классы Академии Художеств, где совершенствовался в живописи, знакомился с мастерами, узнавал их быт.
Последуем и мы за Гоголем на Васильевский остров в натурные классы Академии (а заодно и в Университет, и в бывший Патриотический институт).
«Фонарь умирал на одной из дальних линий Васильевского острова. Одни только белые каменные дома кое-где вызначивались. Деревянные чернели и сливались с густою массою мрака, тяготевшего над ними. Как страшно, когда каменный тротуар прерывается деревянным, когда деревянный даже пропадает, когда все чувствует двенадцать часов...»
На Васильевском острове Гоголю открылся мир тружеников и мастеров. Среди них промелькнул и почти бесплотный Пискарев. Художник этот вырос на поклонении одним лишь отвлечённостям, для него реален «Рим мадонн» с его голубыми небесами и всеобщей благостью. И оттого, наверное, Пискарёв заранее обречён: он порхнул , как мотылёк, на фоне серого петербургского неба и исчез, погребённый на Охте.
А сколько точных наблюдений за бытом людей искусства проявилось в повести «Портрет»! Автор наверняка встречался в залах Академии художеств с известными мастерами – Андреем Ивановым (отцом Александра Иванова), Алексеем Егоровым, Василием Шебуевым. Но более других, разумеется, знал он жизнь нежинского однокашника Аполлона Мокрицкого.
В «Портрете» выражены эстетические идеалы писателя. Вся художническая жизнь: по мысли Гоголя, есть приготовление к творческому подвигу: именно таким ему виделся собственный путь в литературе («Теперь я готов. Если Богу угодно, я совершу свой труд»).
Для Гоголя все или почти все сбылось весной 1831-го. Он навсегда оставил службу в департаменте («теперь не заманите меня, я не стану переписывать гадких бумаг ваших!»), он стал учителем в Патриотическом институте («вместо мучительного сидения по целым утрам, вместо 42-х часов в неделю, я занимаюсь теперь шесть»), он выехал из опостылевшего ему дома Зверкова («сколько кухарок, сколько приезжих! А нашей братии чиновников – как собак»). Наконец, в двадцатых числах мая был представлен Пушкину. Пройдёт ещё немного времени, и он переберётся в дом Брунста на Офицерской улице, а оттуда – в дом Демут-Малиновского в Новом переулке близ Мойки (поближе к Пушкину).
И, естественно, в те же месяцы увеличился гоголевский шинельный капитал. Издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» позволило помыслить о покупке меха, сукна, подкладки и застёжек серебряными лапками.
Каков же он был первый гоголевский портной? В одном из писем Никоша сообщал маменьке, что на переделку старой шинели и на покупку к ней воротника истрачено до 80 рублей (то есть, сумма, в которую обошлась шинель Башмачкина). Как тут не вспомнить портного Петровича! Может, именно он, мечтавший о собственной вывеске на Невском, шил знаменитую енотовую шубу...
Право, хочется верить в реальность прототипа обаятельного портного Петровича из «Шинели», не затмившего, однако, мерой любви, с какою написан сам Акакий Акакиевич. По сути, перед нами на столе, скрестив босые ноги, сидит участник кампании 1812-го. Иначе как понять его манеру изъясняться по-военному («здравствовать желаю, судырь»), потерянный глаз, всяческие шрамы, табакерку с портретом боевого генерала. А уж о талантливости этого человека, о его уважении к собственной профессии и говорить нечего.
И вот уже Петрович весьма ловко набросил на плечи Николая Васильевича новую енотовую шубу. К счастью, этот момент жизненного успеха писателя был запечатлён, сохранен для памяти потомков петербургским художником Горюновым. На портрете 1835 года мы увидели литератора, автора только что вышедших «Арабесок» и «Миргорода», прогуливающегося вдоль набережной Невы (помните, «прошёлся по тротуару гоголем, наводя на всех лорнет»). Теперь у него новая квартира на Малой Морской улице, куда захаживает Пушкин, появились многочисленные почитатели, а главное – великое дело жизни, которому он отдаёт себя до конца.
Однако, пусть история эта никого не заставит заподозрить Гоголя в любви к роскоши и богатству. Им была приобретена первая и последняя шуба в жизни. Спустя семнадцать лет, в горестный для русской истории день 21 февраля 1852 года, одним из предметов, попавших в опись имущества покойного стала «шуба енотовая, крытая черным сукном, старая, старая, довольно ношенная». Вся наличность, найденная в квартире Гоголя, составила 43 рубля 88 копеек серебром. Хоронили, по сути, бедняка. Те немалые средства, которые Николай Васильевич выручил за издание своих книг, он передал в фонд помощи бедным студентам.
Перечитывая ещё раз «Петербургские повести», постоянно помнишь, что многие их драматические страницы взяты из жизни автора. Исследователи его творчества нередко пишут о том, что он сделал главным героям русской литературы «маленького человека». Остаётся добавить одно: в юности Гоголь сам испытал на себе судьбу «маленького человека».